Хотите быть более креативным? Развивайте синестезию
Совместно с издательством «КоЛибри» публикуем фрагмент книги «Всеобщая история чувств» Дианы Акерман о том, как люди творческих профессий использовали синестезию для стимуляции вдохновения.

Повседневная жизнь — это непрерывная атака на восприятие, и у каждого из нас ощущения в определенной степени накладываются одно на другое. Как утверждает гештальт-психология, если дать людям список бессмысленных слов и поручить связать их с контурами и цветом, то определенные звучания будут в довольно четком порядке ассоциироваться с определенными очертаниями. Еще удивительнее то, что этот порядок будет сохраняться для испытуемых и из США, и из Англии, и с полуострова Махали, который вдается в озеро Танганьика. Люди с развитой синестезией тоже склонны реагировать предсказуемо.
Исследование двух тысяч синестетиков, принадлежавших к различным культурам, выявило большое сходство в ассоциации цветов и звучания. Низкие звуки часто ассоциируются у людей с темными цветами, а высокие — с яркими.
В определенной степени синестезия встроена в нашу систему чувств. Но сильная природная синестезия встречается у людей редко — примерно у одного на пять тысяч, — и невролог Ричард Сайтовик, прослеживающий основы этого феномена в лимбической системе, самой примитивной части мозга, называет синестетиков «живыми ископаемыми когнитивной системы», потому что у этих людей лимбическая система не полностью управляется куда более сложной (и возникшей на более позднем этапе эволюции) корой головного мозга. По его словам, «синестезия… может служить воспоминанием о том, как видели, слышали, обоняли, ощущали вкус и осязали первые млекопитающие».
Некоторых синестезия лишь раздражает, но другим она идет во благо. Для человека, желающего избежать сенсорной перегрузки, это может быть и небольшая, но беда, зато настоящие творческие натуры она воодушевляет. Среди наиболее известных синестетиков — немало людей искусства. Композиторы Александр Скрябин и Николай Римский-Корсаков в своей работе легко ассоциировали музыку с цветами. Для Римского-Корсакова тональность до мажор была белой, а для Скрябина — красной. Ля мажор у Римского-Корсакова розовая, у Скрябина — зеленая. Еще удивительнее то, что результаты их музыкально-цветовой синестезии порой совпадали. Ми мажор у обоих была голубой (у Римского-Корсакова — сапфирового оттенка, у Скрябина — бело-голубой), ля-бемоль мажор — пурпурной (у Римского-Корсакова — серовато-лиловой, у Скрябина — пурпурно-лиловой), ре мажор — желтой и т. д.
Для писателей синестезия тоже благотворна — иначе разве бы они описывали так выразительно ее проявления?
Доктор Джонсон однажды сказал, что «алый цвет лучше всего передает металлический крик трубы». Бодлер гордился своим «сенсорным эсперанто», а один из его сонетов, где связаны между собой ароматы, цвета и звуки, оказал огромное влияние на влюбленных в синестезию символистов.
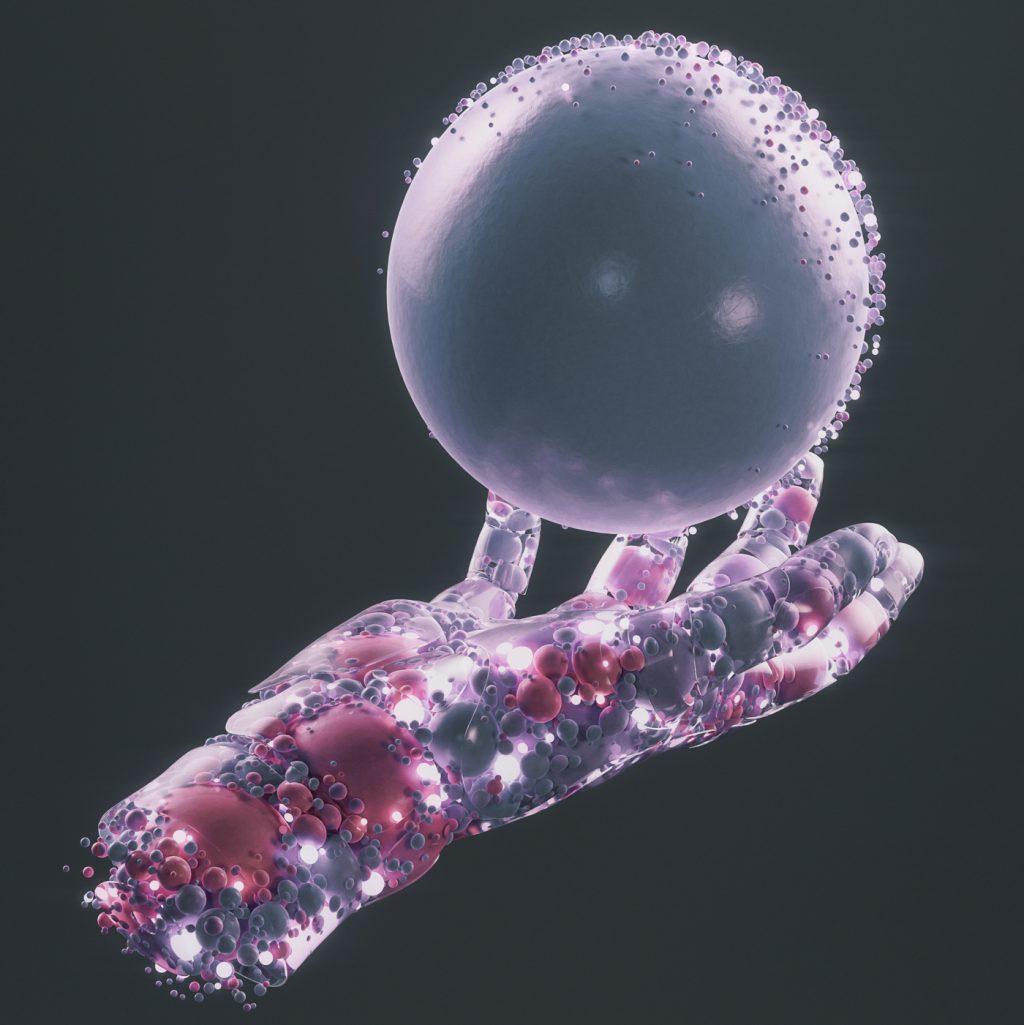
<…> Мало кому удалось написать о синестезии столь точно и изящно, как Владимиру Набокову, который в автобиографии «Память, говори» анализировал то, что называл «цветным зрением»:
Не знаю, впрочем, правильно ли говорить о «слухе», цветное ощущение создается, по-моему, самим актом голосового воспроизведения буквы, пока воображаю ее зрительный узор. Долгое «a» английского алфавита… имеет у меня оттенок выдержанной древесины, меж тем как французское «а» отдает лаковым черным деревом. В эту «черную» группу входят крепкое «g» (вулканизированная резина) и «r» (запачканный складчатый лоскут).
Овсяное «n», вермишельное «l» и оправленное в слоновую кость ручное зеркальце «о» отвечают за белесоватость. Французское «on», которое вижу как напряженную поверхность спиртного в наполненной до краев маленькой стопочке, кажется мне загадочным.
Переходя к «синей» группе, находим стальную «x», грозовую тучу «z» и черничную «k». Поскольку между звуком и формой существует тонкая связь, я вижу «q» более бурой, чем «k», между тем как «s» представляется не поголубевшим «с», но удивительной смесью лазури и жемчуга. Соседствующие оттенки не смешиваются, а дифтонги своих, особых цветов не имеют, если только в каком-то другом языке их не представляет отдельная буква (так, пушисто-серая, трехстебельковая русская буква, заменяющая английское «sh», столь же древняя, как шелест нильского тростника, воздействует на ее английское представление). <…>
Писатели — странные люди. Мы бьемся в поисках идеального слова или блестящей фразы, которые позволят каким-то образом сделать внятной для других лавину уникальной осознанной информации. Мы живем в ментальном гетто, где из каждой работоспособной идеи, если дать ей должное побуждение — немного выпивки, небольшая встряска, деликатное обольщение, — может вырасти впечатляющий труд. Можно сказать, что наши головы — это конторы или склепы. Наше творчество словно обитает в маленькой квартирке в доме без лифта в Сохо. Нам известно, что сознание пребывает не только в мозгу, но вопрос о том, где оно находится, не уступает по сложности вопросу о том, как оно работает.
Кэтрин Мэнсфилд однажды сказала, что взрастить вдохновение можно, лишь очень тщательно «ухаживая за садом», и я считаю, что она имела в виду нечто более управляемое, нежели прогулки Пикассо в лесу Фонтенбло, где он «до несварения объедался зеленью», которую ему позарез нужно было вывалить на холст.
Или, возможно, она имела в виду именно это: упорно возделывать знание о том, где, когда, как долго и как именно действовать, — а потом приступить к действию, и делать это как можно чаще, даже если устал, или не в настроении, или недавно совершил несколько бесплодных попыток. Художники славятся умением заставлять свои ощущения работать на себя и порой используют поразительные фокусы синестезии. <…>

Шиллер складывал в ящик стола гниющие яблоки и вдыхал их едкий запах, если затруднялся найти нужное слово. Потом он задвигал ящик, но запах оставался у него в памяти.
Исследователи из Йельского университета установили, что пряный аромат яблок оказывает сильный бодрящий эффект и может даже предотвращать панические атаки. Шиллер мог установить это опытным путем. Что-то в сладкой затхлости этого запаха взбадривало его мозг и успокаивало нервы.
Эми Лоуэлл, как и Жорж Санд, за письменным столом курила сигары и в 1915 году закупила 10 тысяч любимых ею манильских второсортных сигар, чтобы наверняка обеспечить питанием свои творческие печи. Это Лоуэлл сказала, что обычно «швыряет» идеи в подсознание: «…как письмо в почтовый ящик. Через шесть месяцев у меня в голове начинают возникать слова стихотворения. <…> Слова будто бы проговариваются в голове, но их никто не произносит». Потом они обретают форму, окутанные облаком дыма. И доктор Сэмюэль Джонсон, и поэт У.Х. Оден более чем неумеренно пили чай — сообщалось, что Джонсон частенько выпивал за один присест двадцать пять чашек. Джонсон умер от удара, но непонятно, могло ли это явиться следствием злоупотребления чаем. Виктору Гюго, Бенджамину Франклину и многим другим лучше всего работалось, если они раздевались донага.
Д.Х. Лоуренс однажды признался, что любил лазить нагишом по шелковичным деревьям — их длинные ветви и темная кора служили для него фетишем и стимулировали мысли.
Колетт начинала творческий день с вылавливания блох у своей кошки; мне нетрудно представить, как методичное перебирание и разглаживание меха помогало сосредоточить разум сибаритки. Кстати, эта женщина никогда не путешествовала налегке, а всегда требовала брать с собой большие запасы шоколада, сыров, мясных деликатесов, цветов и багетов в каждую, даже непродолжительную поездку. Харт Крейн обожал шумные вечеринки, но в разгар веселья всегда исчезал, бежал к пишущей машинке, включал запись кубинской румбы, потом «Болеро» Равеля, потом любовную балладу, после чего возвращался «с багрово-красным лицом, пылающими глазами, стоящими дыбом уже седеющими волосами. Во рту у него торчала пятицентовая сигара, которую он вечно забывал закурить. В руках он держал два-три листа машинописного текста… «Прочти-ка! — говорил он. — Величайшее стихотворение в мировой литературе!» Это рассказывал Малкольм Каули, который приводит много других примеров того, как Крейн напоминал ему «еще одного друга, знаменитого убийцу лесных сурков», когда писатель «пытался выманить вдохновение из тайного убежища пьянством, смехом и музыкой фонографа».
Стендаль, работая над «Пармской обителью», каждое утро читал две-три страницы французского Гражданского кодекса, чтобы, по его словам, «настроиться на нужный тон». Уилла Кэзер читала Библию.
Александр Дюма-отец писал публицистику на бумаге розового цвета, беллетристику — на голубой, а стихи — на желтой. Он был чрезвычайно организованным человеком, вплоть до того, что для лечения бессонницы и утверждения привычек ежедневно в семь утра съедал яблоко под Триумфальной аркой. Киплингу требовались самые черные чернила, какие только удавалось найти; он мечтал о том, чтобы «завести чернильного мальчика, который растирал бы мне индийские чернила», как будто сама тяжесть черноты должна была сделать его слова столь же значимыми, как и его воспоминания.
Альфред де Мюссе, любовник Жорж Санд, признавался, что его больно задевало, когда она сразу после секса кидалась к письменному столу (а такое случалось часто).
Впрочем, Жорж Санд не превзошла Вольтера, который пристраивал лист бумаги прямо на обнаженной спине любовницы. Роберт Льюис Стивенсон, Марк Твен и Трумэн Капоте обычно писали лежа. Капоте даже объявил себя «абсолютно горизонтальным писателем». Хемингуэй работал стоя — те, кто учится литературному мастерству, часто запоминают это, но пропускают мимо ушей то, что стоял он не потому, что воспринимал себя стражем суровой прямодушной прозы, а из-за больной спины, поврежденной при крушении самолета. Кстати, перед тем как приступить к работе, Хемингуэй фанатично затачивал карандаши. Считается, что, когда Эдгар По писал, у него на плече сидела кошка. Стоя работали Томас Вулф, Вирджиния Вулф и Льюис Кэрролл; сообщение Роберта Хендриксона в работе «Литературная жизнь и другие курьезы» (The Literary Life and Other Curiosities) гласило, что Олдос Хаксли «частенько писал носом». Сам Хаксли в книге «Как исправить зрение» (The Art of Seeing) утверждал: «После короткого „рисования носом“ наступит значительное временное улучшение зрения». <…>
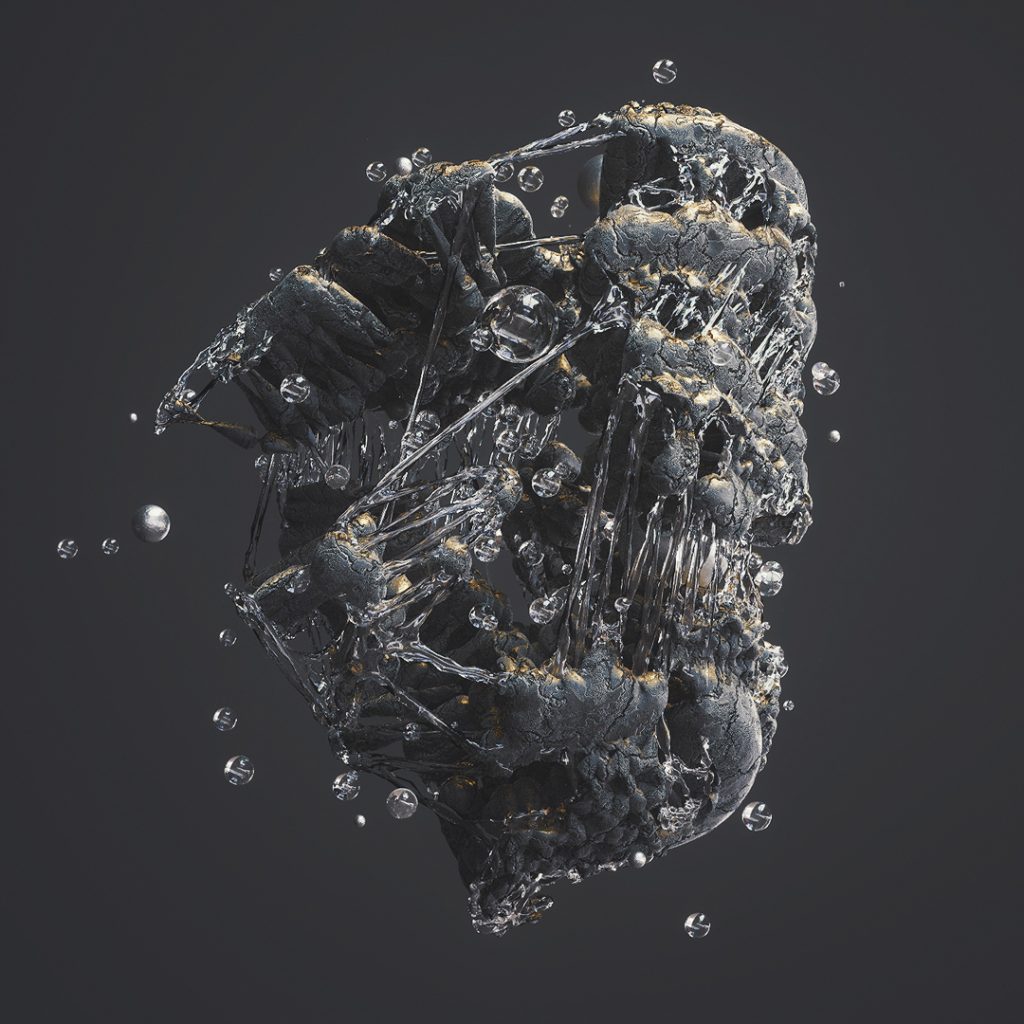
Расспрашивая некоторых друзей о том, как они привыкли организовывать свой писательский труд, я ожидала рассказов о каких-нибудь вычурных ухищрениях — стоять в канаве и насвистывать «Иерусалим» Блейка или, может быть, наигрывать на трубе мелодию открытия скачек на ипподроме в Санта-Аните, поглаживая пестрые колокольчики наперстянки.
Но большинство из них уверяли меня, что ничего подобного у них нет — ни привычек, ни суеверий, ни особых обычаев. Я позвонила Уильяму Гэссу и слегка надавила на него.
— Неужели у вас нет никаких необычных привычек и способов организации работы? — спросила я насколько могла нейтрально. Мы три года проработали вместе в Вашингтонском университете, и я знала, что за его маской тихого профессора скрывается поистине экзотическая интеллектуальная натура.
— Нет, боюсь, я очень скучный человек, — вздохнул он. Я слышала, как он устраивался поудобнее на лестнице в своей кладовке. И, поскольку его сознание очень походило на захламленную кладовку, это казалось очень кстати.
— Как начинается ваш день?
— О, я посвящаю пару часов фотографированию, — ответил он. — И что же вы фотографируете?
— Ржавые, заброшенные, безнадзорные, выморочные уголки города. В основном тлен и грязь, — сообщил он тоном «а что тут такого?», небрежным, как взмах ладони.
— Значит, вы каждый день фотографируете тлен и грязь? — Почти каждый.
— А потом начинаете писать?
— Да.
— И не считаете это необычным?
— Для меня — нисколько.